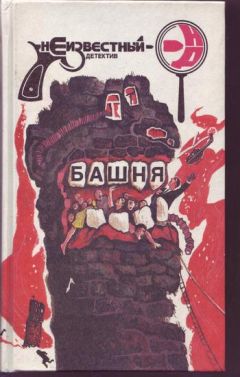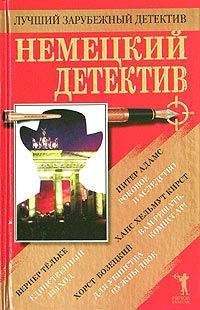Фон Гота. Давайте я угадаю. Из наших разговоров я понял, что вы очень уважали Петера Вардайнера. Лишь его супружество вы не принимали всерьез.
Гольднер. Вот именно. Я всегда думал, что Вардайнеры — образцовая супружеская пара, не обременяющая друг друга, предоставляющая максимальную свободу и не усложняющая жизнь, обзаведясь детьми. И вдруг „бум!“ — вся любовь прошла как дым.
Фон Гота. А вы уверены, что это не было лишь проявлением взаимного уважения, родившегося из долголетней совместной жизни, ставшего, скорее, привычкой?
Гольднер. Это больше подходит к Келлеру с его псом, — фигурам из мира сказок, а не к нормальным людям. Меня гораздо больше занимает, что думаете вы о Циммермане!
Фон Гота. К Циммерману у меня отношение сложное: странная смесь удивления и уважения, но с печалью и жалостью. Восхищаюсь его упрямством и непреклонностью, с которыми он в любых ситуациях готов бороться за правду. Всегда и везде. Поверьте, в прогнившем обществе, пронизанном коррупцией и погоней за деньгами, это нелегко. Поэтому я его так уважаю. Благодаря ему и таким людям, как он, в нашем городе вообще еще можно жить!
Гольднер. Вот видите, мой друг, как у людей может сложиться неверное представление о ближних. Я, например, всегда считал вас плейбоем, стоящим выше таких вещей, и вдруг в вас прорезался почитатель честных людей и моралист.
Фон Гота. Я удивлю вас еще больше. Кроме всего прочего, я еще и любитель искусства. В том числе и поэзии. Недавно мне попал в руки сборник ваших юношеских стихов. Посвящен он „Генриетте, с любовью“, не какой-нибудь вымышленной, а конкретной Генриетте, не так ли? Будущей фрау Шмельц.
Гольднер. Так вы все-таки раскопали! Ай да полиция! Но, по крайней мере, теперь вам ясно, почему я Шмельца на дух не переношу. Нет, точнее: почему я его ненавижу!
Фон Гота. Понять, какие чувства вы испытываете к Шмельцу, совсем не трудно. Келлер, которого вы считаете сказочным персонажем — и еще счастье, что у нас есть такие сказочные деды, — сказал бы, что хороший криминалист не только понял бы вашу ненависть к Шмельцу, но и счел бы ее вполне естественной.»
* * *
— И не пытайтесь что-то сваливать на Шмельца, — заорал Циммерман на втянувшего голову в плечи Гансика Хесслера. Он применил к нему испытанный набор всех полицейских штучек.
На этом шумном представлении — привычной части их работы — присутствовали, кроме Циммермана и Хесслера, еще и Келлер с неразлучным псом, инспектор Ляйтнер и любознательный фон Гота. Тому было не по себе от обращения Циммермана с Хесслером.
— Вы сами натворили дел, Хесслер, и сами будете отвечать. Вам ясно?
— А что вообще вы против меня имеете? — Хесслер все еще пытался выкрутиться. — Что, по-вашему, я такого сделал?
— Предостаточно, — бросил Циммерман, — и докажем мы все до последнего пунктика. И не ждите, что кто-нибудь вам поможет. Тем более ваш доктор Шмельц!
— Он мне поможет! — в отчаянии воскликнул Хесслер. — Он меня не предаст!
— Вы и сами не верите, что говорите! Не заметили, как он вел себя, когда вы встретились? Теперь он не хочет иметь с вами ничего общего!
Голова Хесслера упала на грудь. Он покачнулся и, когда Ляйтнер подхватил его, прохрипел:
— Я этого не заслужил!
— А как вы полагаете, чего заслуживает убийца? — добил его Циммерман. Потом отвернулся к своим сотрудникам и перестал обращать внимание на Хесслера. Проверил, все ли готово для реконструкции событий на Нойемюлештрассе. Таких реконструкций предстояло еще несколько, но Циммерману важнее всего была первая.
Когда Фельдер заверил, что все пройдет как по нотам, что придут все свидетели, не исключая доктора Шмельца, он решил:
— Мы с Келлером поедем вперед. Через четверть часа после нас туда в своей машине приедет Хесслер. Сопровождать его будут Ляйтнер и фон Гота. Организуйте это так, чтобы на месте преступления вы были ровно в двадцать три пятнадцать.
* * *
— Похоже, мы победили, и это нужно отметить! — сказал Ойген Клостерс Сузанне Вардайнер. Но та взглянула на него с сомнением.
— Я все еще не убеждена, что эта демонстрация имела какой-то смысл.
— Имела, имела, а если сразу не подействует, начнем все снова.
Клостерс просто упивался оптимизмом:
— Я подключил своих лучших людей, а те все сделают как надо. Я знаю, что делаю, Сузанна! Когда борюсь за справедливость, я не сражаюсь благородной шпагой, как Вардайнер, я беру в руки топор потяжелее!
— Ох, лишь бы это помогло Петеру, — задумчиво произнесла она.
— Вы все это воспринимаете слишком трагично, Сузанна, слишком серьезно… Вам надо немного отдохнуть, отвлечься. И я даже знаю как. Внизу в отеле сегодня маскарад. Идемте со мной!
— Нет, прошу вас, не надо!
— Сделайте это для меня. Хотя бы в благодарность за оказанную вам сегодня услугу. И только на часок…
Сузанна в конце концов согласилась. Зашла к приятельнице, которая жила неподалеку, переоделась там в маскарадный костюм русалки и вскоре возвратилась к осчастливленному Клостерсу.
Когда они вместе вступили в зал, их окружил прибой наготы, местами прозрачной, местами вовсе не прикрытой, блестящей от пота. Вокруг мелькали оголенные груди, неприкрытые пупки, обнаженные ягодицы. Репродукторы гремели, не было слышно ни единого слова.
Сузанна в этом гвалте ощутила желание поделиться с кем-то избытком чувств, переполнявших ее.
— Знаете, я так люблю Петера, но он об этом даже не знает! А я так хочу, чтобы он узнал! Хочу сказать ему об этом.
Она почти выкрикнула это, но Клостерс только улыбался в ответ — в ужасном шуме он не понимал ни слова.
* * *
Циммерман по дороге хотел было удивить Келлера, сидевшего рядом с псом на коленях.
— А мы уже знаем, что делал Хорстман в тот вечер на Нойемюлештрассе!
— Хотел зайти в дом тридцать шесть к фрау Фризи, — спокойно ответил Келлер. — А ты откуда знаешь?
— В бумагах Фельдера я заметил фамилию Фризи. И там же нашел ее адрес.
— От тебя ничего не скроешь, — с уважением признал Циммерман и включил свет в кабине, протянув Келлеру извлеченный из кармана лист бумаги.
— Вот что искал Хайнц Хорстман на Нойемюлештрассе. Хесслер готов был сделать что угодно, чтобы помешать ему в этом. Это свидетельство о некоторых обстоятельствах, определивших незадачливую, но вполне типичную для нашей страны судьбу.
— Приложение: из документации, собранной инспектором Фельдером по делу Хорстмана:
Фризи Лизелотта, вдова Хесслер, урожденная Майнрад, родилась в 1905 году в Данциге, ныне Гданьск, Польша. Документы запрошены у польской полиции, имеется согласие на передачу. Проживает на Нойемюлештрассе, в мансарде дома номер тридцать шесть. Живет с процентов на наследство после второго мужа.
В 1922 году в Данциге вышла замуж за Ганса Эрнста Хесслера, учителя средней школы. В 1923 году там же в Данциге у супругов Хесслер родился сын Ганс. Позднее Фризи оставила семью, и сына воспитывала бабушка.
Отец Ганса Хесслера был в 1944 году осужден военным трибуналом «за разложение боевого духа германской армии», якобы за то, что своими нападками публично оскорблял вождя и рейхсканцлера. Смертный приговор был приведен в исполнение в июле 1944 года.
Одним из основных свидетелей на процессе был некий Фризи, который в то время как фельдфебель запаса командовал отрядом «фольксштурма».
И этот Фризи в 1945 году женился на вдове Лизелотте Хесслер. Свадьба состоялась в Шонгау, в Верхней Баварии, где они оба оказались как беженцы с восточных земель. Позднее поселились вместе в Вайльхайме. А 1 июля 1945 года Дитмар Фризи был найден мертвым. Видимо, на него напали на прогулке в лесу и убили неустановленным тупым предметом.
Среди подозреваемых был и сын фрау Фризи от первого брака — не кто иной, как наш Гансик Хесслер. Но не удалось даже доказать, что в день убийства он был где-нибудь поблизости от места преступления, не то чтобы собрать улики. Дело было закрыто как неразрешимое.
— Как и большинство уголовных дел в первые послевоенные годы, — заметил инспектор Фельдер.
* * *
— Так что ничего нет нового под солнцем, — Келлер погасил свет в кабине. — Мы полагали, что разрешим Бог весть какое сложное преступление, а оказалось, что столкнулись с совершенно заурядным эпизодом отечественной истории. С несчастным человеком, которого нам недавнее прошлое оставило в наследство.
— Что ты хочешь сказать? — спросил удивленный Циммерман. — Или нам оттого, что время и общество кого-то сделали преступником, теперь не бороться с преступностью как таковой? Или вообще не забирать их и не судить и считать больными? Смириться с тем, что существует преступность, как смирились с существованием рака только потому, что не умеем его лечить?
![Ричард Штерн - Вздымающийся ад [Вздымающийся ад. Вам решать, комиссар!]](https://cdn.my-library.info/books/253607/253607.jpg)